Раздел: ТЕОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Ключевые слова:
дворянская усадьба, крестьянские традиции, гармония с природой, мифологема разума
Аннотация:В статье рассматриваются принципы усадебной организации, которые не строятся на диаметрально противопоставлении ценностей городской и деревенской жизни. Здесь городской цивилизации, с доминирующей мифологемой человеческого разума, противопоставляется естественно-природное начало сельской жизни, идея гармонии с природой.
Текст статьи:
Важным фактором для осмысления статуса дворянской усадьбы в условиях аграрного общества являлись два направления ее функционального назначения: сохранение традиций и обеспечение развития. Усадьба, и в материально-физическом выражении (как культурное пространство), и в сознании ее обитателей (с изменением внешних форм существования и хронотопных характеристик) находилась в пограничном положении между городом и деревней. «…Эта «амбивалентность» усадьбы, ее связь с обоими полюсами общественного бытия придавали ей значение некоего универсального символа российской жизни, глубоко укорененного в ее истории…»[1]
Принципы усадебной организации не строятся на диаметрально противопоставлении ценностей городской и деревенской жизни. Но городской цивилизации, с доминирующей мифологемой человеческого разума, противопоставляется естественно-природное начало сельской жизни, идея гармонии с природой. Для дворянина, выросшего в усадьбе, городская жизнь не являлась жизненным идеалом. Он даже при желании не мог избавиться от образа счастливого детства, до некоторой степени, идеализируя уклад усадебной жизни. Этим объясняется раздвоенность дворянской культурной традиции — вынужденное проживание в городе и добровольного выбора впоследствии деревенской жизни, которая воспринималась дворянином как обретение свободы:
«…В лице русского дворянина, культура обретает осознанную позицию цивилизованного человека: возвратиться в лоно природы, обретя независимость, почувствовав в себе индивидуальные силы, соединить их и силами природы во благо общества…Рациональное и природное начала соединяются здесь воедино, насыщаются исторической символикой. Положительное – изящество архитектуры и внутренний комфорт жилья, возможность культурного общения с близким по духу кругом друзей, простота внутренней организации и целостность хозяйственно-бытового и семейного уклада, близость к природе и непосредственность человеческих отношений…»[2]
Дворянство, как основной носитель усадебной мифологемы и представитель более прогрессивной части социума, стремилось создать универсальное пространство, представляющее собой тесную взаимосвязь экономических, социальных и культурных факторов. Возвращение в усадьбу обязывало дворянина, воспитанного на военной или гражданской службе, в социально-хозяйственной деятельности проявлять прагматизм и расчетливость, интенсивность интеллектуальной и интуитивной деятельности. Система его знаний о космологических представлениях крестьянской традиции была абстрактна и несовершенна, накопленного опыта было недостаточно для коренных преобразований. При этом усадебная жизнь в провинции накладывает на личность владельца определенные обязательства в частной жизни, формируя новые модели его поведения в обществе. Нормы, общепринятые в столичных городах, совершенно неприемлемы в патриархальном обществе провинции. Организация усадебного пространства, восприятие себя в этом пространстве, управление подданными ему безграмотными крестьянами требовали отказа от ряда принятых в столичных аристократических кругах обычаев и условностей. Необходимо было учиться понимать окружающий мир природы, крестьянскую психологию, вникать в тонкости сельскохозяйственной экономики, оставаясь при этом полноценным членом дворянской корпорации. Применительно к усадебному укладу жизни понятие «философия хозяйства» не является метафорой. Целостность мировоззренческих оснований дворянина имеет непосредственное влияние на выбор приоритетов поведения и форм сельскохозяйственной деятельности, в процессе которой дворянин обращался к накопленному в течение столетий крестьянскому опыту ведения экономики. Природные особенности местности, специфика отраслей сельского хозяйства, мониторинг культурных и дикорастущих растений, домашних и диких животных, погодных условий, почвенных ресурсов — обширная область знаний, умений и навыков, которые были достоянием крестьянской общины, и их необходимо было уметь активно и эффективно применять на практике. Постоянная идейная, ментальная соотнесенность, взаимосвязь мирового и повседневного пространства, основательность и безусловное следование православным догматам, характерные для крестьянской традиции, приобретают в дворянском мировоззрении особый статус, подчиняя себе утилитарные, прагматические заботы и ценности повседневной жизни.
Для традиционной общины дворянская усадьба должна стать защитным барьером от агрессивных действий цивилизации, постепенно вовлекая ее в хозяйственное и культурное развитие. Вторжение в крестьянский космос, экспансия новой культуры в материальную среду патриархальной деревни являлась атакой на традиционные устои общины, а стремление утвердить инновационные западноевропейские стандарты путем нейтрализации этническо-фольклорных форм – культурной провокацией. Поэтому, сохранение стабильности отношений между сословиями, требовало от владельца усадьбы напряжения и концентрации воли, нравственных и духовных сил. И обязывало дворянина поддерживать определенный уровень социальной консолидации, уважать систему ценностей, правил, обычаев, социальных стандартов крестьянского сословия. Но отсутствие вариантов, в условиях крепостнического строя, для формирования паритетных социальных отношений выражалось в реализации условных целей, не выходящих за рамки реальных общественных отношений.
В условиях аграрного общества новая западноевропейская культура не имела активного влияния на крестьянскую традицию. Два мира культуры – дворянский и крестьянский существовали сами по себе. По мере обретения западноевропейскими заимствованиями самостоятельной национальной позиции начинается социально-культурный диалог, а впоследствии, и модернизационные процессы в пространстве провинциального крестьянского социума. Прерогатива в этом процессе принадлежала усадьбе.
На первых этапах становления усадьба, как культурное пространство, обладает вполне четкими границами в рамках архитектурно-паркового комплекса, который вместе с тем имел свое продолжение в видовых перспективах близлежащих рощ и полей. Но постепенно, с распространением в окружающее пространство, границы усадьбы нейтрализуются. «…Для человека усадебной традиции все «участно» освоенное им становилось фактом безусловного «пространственного притяжения…»[3]. Духовная вертикаль дворянской культуры, с выходом в крестьянский космос, обретает горизонтальное измерение. Активно взаимодействуя с территориальным, экономическим, социальным пространством патриархальной деревни и, не смотря на полное отсутствие правовой культуры, провинциальная усадьба приобретает особую, отличную от пристоличных резиденций, специфику, индивидуальную конфигурацию, архитектонику, способы трансляции и обмена с народной традицией духовным, культурным и экономическим опытом.
Константность и периодическая возобновляемость основных параметров жизни крестьянской общины стали источником определенного консерватизма ее мировоззренческих позиций и культуры. Усадьба для патриархальной онтологии, крестьянской психологии является объектом особого восприятия. Традиционное сознание определяет противоположность между дворянским и крестьянским локусами дуальной оппозицией сакрального мира усадьбы и обыденности окружающего пространства. Природа этого культурного противопоставления коренится в подсознательных уровнях психической организации крестьянина.[4]
Для крестьянской общины образное восприятие усадебного мира характеризуется средоточием психологических, пространственных, материально-предметных характеристик бытия, которому присуща предельная цивилизационная уплотненность: архитектурная, культурная, духовно-нравственная, экономическая. Рациональная упорядоченность, эстетическая и эмоциональная нагруженность пространства усадьбы способствуют его идеализации и сакрализации в архаичном сознании крестьянства и переносятся с усадебного образа-мифа на образ владельца. При этом модель взаимоотношений между владельцем и крестьянами строится по аналогии с внутренней иерархией крестьянской общины. Обращение убеленного сединами старика к молодому барину «батюшка», есть не что иное, как проекция отношений существующих внутри семьи, воспроизводящая отношение к власти главы семьи, которым в крестьянском восприятии был владелец усадьбы.
Усадебная жизнь раскладывалась на три составляющих — бытовую, экономическую и духовную. В сфере духовной культуры дворянство и крестьянство имели единые корни, традиции, обычаи. Внутри хозяйственной деятельности усадьбы присутствует определенный экономизм — материальный достаток владельца зависит от производительности труда крепостных крестьян. В быту и повседневной жизни дворянину трудно обойтись без дворовой челяди, в услугах которой он нуждается постоянно. Патриархальные традиции аграрного общества, предполагали нравственную ответственность помещика за судьбу крестьян, как право управлять ими, так и обязанность их опекать, помогать им в нужде, справедливо решать их споры. Культ «отца семейства», непререкаемость авторитета и уверенность в его неограниченных возможностях, сомнения в своей самостоятельности и привычка к несвободе были настолько крепки в сознании крестьян, что юридическая свобода после отмены крепостного права воспринималась крестьянством неоднозначно.
Непосредственное присутствие владельца в усадьбе, который в психологическом восприятии крепостного крестьянина являлся опорой, защитой, а в некоторых случаях, гарантией от произвола управляющих, являлось положительным фактором в жизни сельской общины. Офицер русской армии и смоленский дворянин Дмитрий Якушкин писал: «…Крестьяне…уверили, что им буду уже тем полезен, что при мне будут менее притеснять их. Я убедился, что в словах их много правды, и переехал на житье в деревню…»[5]
Усадьба для всех представителей рода является исходным пунктом деятельно-творческого восприятия мира. Родясь в имении, они служили в столицах, получая чины и награды, странствовали по свету в поисках новых впечатлений и идеалов, а последний приют находили, как правило, в фамильном некрополе родной усадьбы. Извечная любовь к «родному пепелищу», порой даже не объяснимая, в данном случае — чувство высокого философского порядка, которое, нивелируя сословные различия, является импликацией духовного единства дворянства и простого народа. Колорит усадебной жизни определялся духовным пространством, историей, традициями, которые благоговейно береглись и передавались из поколения в поколение, со знаковыми событиями, запечатлёнными навечно в семейных реликвиях, с фамильной галереей, библиотекой, коллекциями, семейными альбомами, надгробиями у церкви. Преемственность семейных традиций — «у нас так принято»: приверженность патриархальным устоям, почитание старших, проживание большой семьёй — определяло модель поведения обитателей усадьбы. На родовых ценностях, на «преданьях старины глубокой» взращивалось не одно поколение дворянства, для которых благородство, долг, честь, ответственность являлись важнейшими качествами каждого представителя дворянского сословия. Становление в усадьбе личностного начала происходило в рамках естественной природной среды, эстетического окружения, ограниченного круга общения, приобщения к труду, дополнялось изучением литературных, исторических и научных источников и обязательным присутствием образцов для подражания, в лице старших представителей рода. Эти факторы оказали значительное влияние на формирование феномена исторических авторитетов, деятелей науки и искусства. Система ценностей дворянства со временем претерпела трансформацию, однако остались вечные – «за Веру, Царя и Отечество». Впоследствии, материальная сфера усадебной эстетики непосредственно влияет на процесс формирования духовных ценностей и способствует процессу мифологозации пространства в сознании обитателей усадьбы.
«…Миф оказывается возможен лишь при равновесии слагаемых, в том числе и материальных, и дворянская усадьба функционирует в показательном единстве своих культурных традиций…»[6]
Соединение личных впечатлений и объективной реальности в общую картину бытия усиливало возможность человеческой души возвращаться в прошлое, способствовало его идеализации и формированию в дворянской традиции феномена родного дома — пространства, выявляющего и хранящего духовные и материальные ценности нескольких поколений рода. За примерами обратимся к мемуарному и эпистолярному наследию Бориса Николаевича Чичерина и Евгения Абрамовича Боратынского. В письме к Петру Андреевичу Вяземскому летом 1830 года Боратынский писал: «…Проживать можно где хочешь и где судьбе угодно, но жить надобно дома…».[7] Эти слова поэта выражают сущность и являются основополагающими в концепции феномена родного дома, в которой возможно выделение следующих структурных элементов:
— родной угол (жилой дом) — безопасное пространство и надежное убежище;
— участок земли (парковая зона), за которым можно ухаживать и устраивать в соответствии со своими желаниями и представлениями;
- система объектов (усадебный храм, часовня, некрополь) — материальное воплощение духовных ценностей и коллективной родовой памяти;
— группа людей (родители, дети, братья, сестры, няни, гувернантки, домашние учителя, дворовые люди, крестьянская община), имеющих духовные и родственные связи;
— культурное наполнение усадьбы – семейные традиции, привычки и занятия обитателей, бытовая обстановка, семейный уют, самые разнообразные явления культуры (предметы искусства, науки, техники).
Заложенные с раннего детства эмоциональные факторы восприятия родной усадьбы, красоты окружающей природы, непосредственной близости родных людей являются исходным пунктом для формирования в сознании молодого поколения культа родного дома, который в продолжение всей жизни служит основанием, на котором базируются родовые культурные универсалии дворянского сословия. Усадебное пространство при этом является исходным пунктом творческого восприятия мира. Все достижения усадебной культуры, способствующие образованию в дворянской традиции интимного образа родной усадьбы, который станет основополагающим фактором в процессе формирования культа родного дома, являлись реалистичными и символичными одновременно. Материальные объекты усадьбы – жилой дом с библиотекой и семейной портретной галереей, усадебный храм, парковая зона несли в себе информацию об истории и генеалогии рода, о философской и научной истине; красота отражалась в предметах интерьера – скульптуре, картинах, литературных произведениях; божественное – в предметах культа и религиозной символике; добро – в нравах и бытии обитателей. Патриархальные традиции, сильные духовные и внутрисемейные связи дворянства способствовали тому, что культ родного дома «передавался по наследству». Боратынский, считавший Мару святым местом, впоследствии постройкой дома в Мураново, подготовит уже для своих детей восприятие феномена родного дома, на примере которого видна первичность мифа по отношению к реальной практической деятельности. Усадебный дом, построенный в соответствии запросами и вкусами хозяина, ярко отразил стиль и чувство времени, которое сам поэт назвал «эклектическим». Устройство Муранова основывалось на практическо-рационалистических тенденциях, сочетающихся с тождественностью семейно-бытового и хозяйственного уклада, природного и искусственного, что являлось воплощением универсальности и гармонии мироздания. В письмах к близким людям радость поэта от обретения «семейного гнезда» очевидна:
«…Новый дом в Муранове стоит под крышей…Получилось нечто в высшей степени привлекательное: импровизированные маленькие Любичи…Слава Богу, дом хорош, очень тепел…Дом отделан вполне: в два полных этажа, стены оштукатурены, полы выкрашены, крыт железом…Наш быт изменился тем, что мы реже ездим в Москву… Теперь, слава Богу, мы постоянее бываем дома…».[8]
Бытование в семейной традиции предания – явление особого порядка. В семье Чичериных легенда была связана с отцом Бориса Николаевича: купив усадьбу, Николай Васильевич широко отпраздновал это событие — большим съездом гостей в честь именин жены Екатерины Борисовны (урожденной Хвощинской.). В знак уважения к миру, накрыл для крестьян стол и, приветствуя их, пообещал управлять поместьем рачительно, не обременяя общину лишними тяготами. Этим гражданским актом Николай Васильевич условно реализовал идею сословного единения, будоражившую в то время умы либерально настроенного дворянства. Отеческое отношение к своим крепостным отличало и следующего владельца усадьбы, свято чтившим семейное предание, которое могло сложиться и сохраняться только при условии долгосрочного сохранения «семейных отношений» между владельцами имения и крестьянами. Авторитет родительской власти явился духовным законом, который определял и регулировал жизнь последующих представителей рода.
Культ родного дома был настолько силен в мировоззрении дворянского сословия, что даже в пореформенный период, несмотря на изменения экономического статуса усадьбы, в провинции продолжали устройство родовых гнезд. Б.Н. Чичерин в 1880-х годах занялся доустройством усадьбы Караул. Отсутствие прямого потомства (трое детей умерли в малолетнем возрасте) налагало негативный отпечаток на психологический настрой владельца усадьбы, но чувство долга, восприятие усадьбы как достояния рода обязывало его завершить дело начатое отцом:
«…Я сам с наслаждением принялся за убранство дома, употребляя свои небольшие сбережения на устройство родного гнезда…Теперь к этому присоединилась кой-какая старинная мебель, люстры, вазы, фарфор, частью унаследованные женой (Александра Алексеевна, урожденная Капнист), частью прикупленные в Петербурге…купили или сделали дома нужную дополнительную мебель, выписали по случаю из Парижа и купили в Петербурге разные кретоны, а для спальных комнат – московские ситцы; наш домашний старый столяр Аким по моим рисункам делал подставки для ваз и карнизы для драпировок. Все это было для нас источником беспрерывного удовольствия. Жена устраивалась по своему вкусу, а я в каждом новом улучшении видел довершение отцовского дела, украшение дорогого гнезда, продолжение семейных традиций…»[9]
Положительная энергия Бориса Николаевича, с которой устраиваются усадебные интерьеры, аккумулировалась в пространстве жилого дома, сохранялась в различных «визуальных» текстах — предметах мебели, живописных полотнах, предметах мелкой металлической, мраморной и фарфоровой пластики, способствуя установлению диалога с будущими поколениями. Ностальгические ретроспективные тона характерные для душевного состояния Бориса Николаевича несколько идеализируют усадебный уклад жизни, но вместе с тем путем обращения мыслей и чувств к прошлому, им острее ощущался необратимый ход времени. Эта саморефлексия и стойкое самосознание способствовали приобретению той элегической тональности, которая определяла семантику усадебного архитектурно-паркового ансамбля. Внимание владельца, сфокусированное на продолжении семейной традиции указывает важнейший смысл усадебной модели бытия — желание завещать потомкам устроенную родовую усадьбу.
Развернув в усадьбе процветающее хозяйство, Борис Николаевич весьма активно вникал в крестьянские дела. В 1887 году он, празднуя 50-летний юбилей приобретения Караула, обедней, торжественной панихидой на могиле родителей и общим застольем продолжит семейную традицию духовного единения с крестьянской общиной, которая на протяжении всей оставшейся жизни будет определять его действия и поступки.
«…Большой интерес и украшение сельской жизни составляют добрые отношения к окружающему населению. Я получил их в наследство. При выходе из крепостнического состояния старая нравственная связь не была разрушена. Меня караульские крестьяне знали с детства, а мне доставляет сердечное удовольствие не только знать каждого в лицо и по имени, но быть знакомым с его нравственными свойствами, с его положением и его нуждами. Все ко мне обращаются при всяких невзгодах: у одного пала лошадь, у другого нет коровы, а дети просят молока, у третьего развалилась изба. С небольшими средствами можно всем помочь, и знаешь, и видишь, что эта помощь идет на дело. Жена со своей стороны вошла с ними в самые близкие сношения; она всех их лечит, знает всех баб и детей, постоянно ходит по избам. Мы, много лет живем, как родная семья…»[10]
Экономическое благополучие Караула на протяжении практически пятидесяти лет (второй половины XIX века) — исключительный феномен, который не мог состояться без личного участия владельца, его последовательной деятельности по внедрению передовых приемов агротехники и агрикультуры.
Близость усадьбы к крестьянской деревне способствовала формированию отдельных представителей дворянского сословия чувства нравственной вины. Переживания по поводу несправедливости существующих отношений, желание соответствовать гуманным нормам православной морали, наличие поступков, соответствующих требованиям просвещенного владельца – все это трудно увязать с понятиями «классовая эксплуатация». Либеральные взгляды помещика по отношению к крестьянам способствовали организации патриархального социума по принципу большой семьи, глава которой был хозяин поместья. Патронаж крестьянских семей владельцем усадьбы выражался в покровительстве, попечительстве, управлении крестьянскими семьями. В неурожайный 1833 год, осенью Е.В. Боратынский, понимая ответственность за крестьянскую общину имения, писал из Мары Ивану Васильевичу Киреевскому:
«…Я весь погряз в хозяйственных расчетах. Немудрено: у нас совершенный голод. Для продовольствия крестьян нужно нам купить 2000 четвертей ржи. Это, по нынешним ценам, составляет 40000. Такие обстоятельства могут заставить задуматься. На мне же, как на старшем в семействе, лежат все распорядительные меры…»[11]
Дворянская усадьба и крестьянская деревня, существуя в границах одного имения, не могли не соприкасаться друг с другом. Провинциальная усадьба, как социально-культурный объект, является результатом единства способа мышления владельца, который выступал в роли социального заказчика, и творческого процесса исполнителей. При обустройстве усадьбы – в декорах построек и оформлении интерьеров используются все достижения мирового искусства – живописи и архитектуры. Но при этом активно используется и внутренний потенциал усадьбы – способности и талант крепостных крестьян, зависимое положение которых являлось не только материальной базой для развития дворянской культуры, но и служило неисчерпаемым источником людских ресурсов. Народные умельцы и таланты из простонародья явились тем человеческим материалом, который впоследствии станет цветом русской культуры. В условиях крепостнического общества талантливый крестьянин был заложником системы, не имея возможности для развития своего дарования. Воспитанная в русле дворянской культуры крепостная интеллигенция по своему мировосприятию была значительно ближе к дворянству, чем к крестьянству с его традиционным укладом. Драматизм положения крепостных мастеров заключалась еще и в том, что по своему социальному положению они были крепостными крестьянами, а по системе мировоззренческих ценностей, роду занятий, творческим навыкам к крестьянскому миру уже не принадлежали. При всей парадоксальности ситуации, когда творческий человек был зависим юридически и экономически, вклад народных мастеров в процесс формирования культуры дворянской усадебной культуры был огромен. Отдельным представителям дворянства были свойственны проявления патернализма в отношении особо талантливых крестьян — единственной возможностью для них в условиях крепостнического строя реализовать свой талант. К примеру, Павел Петрович Свиньин – дипломат и издатель, по русской традиции, христосуясь в светлый праздник Пасхи с крепостным художником Тропининым, поднёс ему вольную в пасхальном яичке. Крепостные художники – братья Аргуновы, актеры – Михаил Щепкин и Прасковья Ковалёва-Жемчугова, архитектор Андрей Воронихин достигли высокого уровня профессионального мастерства, развивая свою деятельность в русле современного культурного процесса.
Развитие отношений помещика и крестьян определялось и предпочтениями владельца, уровнем его культурного развития и экономическим положением крестьян, их разделяли «дистанции огромного размера» — социальные и имущественные. В жизни женщины-дворянки и женщины-крестьянки в провинциальной усадьбе прослеживается аналогия и сохраняются традиционные черты — обе связаны семейными узами, устройством быта и заботами о воспитании детей. В детском же восприятии сословной разницы практически не существовало. Партнерами дворянских детей в играх и забавах были дети дворовых. Воспитание и начальное обучение дворянских детей в усадьбе зачастую происходило вместе бедными родственниками и дворовыми детьми, что налагало определенный отпечаток на качественную сторону воспитания крестьянских детей.
Идея просвещения народа не оставляла умы прогрессивного дворянства, которое путем распространения грамотности, приобщения к искусству с помощью устройства крепостных театров и организации народных хоровых коллективов пыталось отвлечь крестьянина от кабака, сделать его активным участником культурных мероприятий, происходящих в пространстве провинциальной усадьбы: «…Я полюбил русского мужика, хотя весьма далек от того, чтобы видеть в нем идеал совершенства…».[12] Но отдельные проявления негативных черт характера у русского крестьянина ни в коей мере нельзя считать национальным архетипом. Крестьянство как социальная корпорация отличалась высокой внутриобщинной организацией с исторически, духовно и культурно обусловленной, не заключавшейся в ее юридическом статусе, формой жизни. Умение воспринимать приметы и явления окружающего мира природы, мудрость, накопленная вековым опытом, предусмотрительность во взаимодействии с огромной работоспособностью помогали русскому крестьянину лавировать между случайностями жизни, которыми, на первый взгляд, можно определить национальные особенности великоросса. Подтверждением высоких духовных и моральных качеств и трудолюбия крестьян является их служба в качестве домоуправителей и горничных в домах дворян и кормилиц их детей:
«…Существовало у нас такое обыкновение, что отпуская кормилицу домой, по окончании срока кормления, господа в награду за благополучное и добросовестное окончание этого дела, давали вольную ее дочери, а, если новорожденный был мальчик, то его освобождали от рекрутчины…»[13]
Крестьянок, вырастивших дворянских детей, до конца жизни отличали бескорыстие, трогательное отношение и крайняя привязанность к воспитанникам, а случаи уважения со стороны господ и их детей к дворовым людям, которые практически являлись членами дворянской семьи, были не единичны. Сильные внутрисословные нравственно-патриархальные традиции оказывали влияние на поступки крестьян в критические моменты для того или иного члена общины, к примеру, когда всем «миром» выкупали молодого крестьянина у помещика, избавляя его от солдатской службы.
Интерес к крестьянину как человеческой личности непосредственно явился основой для возрождения источников неклассического наследия — памятников славянской культуры и фольклорных источников. Взаимосвязь народных сельскохозяйственных и культурных традиций, проявления национального менталитета, социально-исторические и религиозные факторы способствовали культурно-бытовому сближению двух сословий. Крестьянские обычаи и традиции вошли в ткань дворянской культуры, став ее составной и неотъемлемой частью. Жизнь в усадьбе была тесно связана с народным календарем, с народными традициями, обрядами, забавами, которые устраивались на Рождество, Святки, Масленницу. Особенным православным праздником для всех обитателей усадьбы была Пасха. В усадьбе Софьевке Саратовской губернии, имении Софьи Григорьевны Волконской (сестры декабриста Сергея Волконского) крепостной крестьянин которых Иван Кабештов в своих воспоминаниях не мог: «…отказать себе в удовольствии помянуть добрым словом Волконских. Они всегда были добрыми и даже гуманными со своими крепостными крестьянами. По их распоряжению крестьяне обязаны были на барщине работать не более трех дней в неделю; воскресение и праздничные дни работы безусловно запрещались. Пасха праздновалась целую неделю…»[14]
Изменение после реформы 1861 года экономической основы провинциальной усадьбы, статуса ее владельца и юридического статуса крестьянина, способствует тому, что в усадебном пространстве явно наблюдается конвергенция культур, которая выражается не только во влиянии народной культуры на дворянскую, но и дворянской — на народную. Элементы культуры дворянского сословия активно проникают в крестьянскую среду. Меняется облик деревенских построек, кустарные предметы утилитарного назначения заменяются на аналогичные, но фабричного производства, одежда из домотканного полотна уходит в прошлое. Культурное пространство провинциальной усадьбы сохраняет свою независимость, усадьба становится хранителем и консерватором дворянских традиций, но культура «дворянского гнезда» унифицируется, становится более демократичной и либеральной. Преобразуется социальная сущность усадьбы, изменяется ее значение в жизни дворянского сословия и крестьянской общины, изменяется ее содержательная и экономическая функции, но духовно-нравственная ценность как родового гнезда остается неизменной. Этот период, вопреки распространенному мнению, нельзя назвать временем упадка производственной, материальной и духовной культуры усадьбы:
«…Первые годы после освобождения крестьян были весьма благоприятны для нашей губернии…Урожаи были хорошие; у крестьян были отличные заработки; помещики не только не жаловались, а напротив, были совершенно довольны. Никакого оскуднения ни в нашем уезде, ни в других я не видел. Были, как и всегда, люди, которые разорялись по собственной вине; их имения переходили в руки тех, у кого были деньги, то есть купцов. Но это было исключение. Заброшенных усадеб и покинутых хозяйству нас не встречалось…»[15]
Целостность феномена усадебной культуры не исчерпывается только позитивным анализом. Как любая социально-экономическая структура усадьба имела свои негативные стороны жизни. Относительная свобода, которую дворяне получали в провинциальной усадьбе, превращалась в мощный инструмент господства, выражавшийся в произволе помещика; необходимость продажи или залога имения, рекрутские наборы, превращение усадьбы в театр военных действий (Отечественная война 1812 года) является негативными сторонами усадебного феномена, которые необходимо рассматривать в контексте исторических и экономических процессов. Взаимоотношения помещика и крестьянина в провинциальной усадьбе, сформировавшиеся в условиях крепостнического строя, давали владельцу возможность распоряжаться судьбой вверенных ему людей — наказания, продажа, проигрыш в карты были не исключительными случаями. Крепостная крестьянка Калужской губернии Авдотья Хрущова, по ее воспоминаниям, в 10 лет была проиграна барином в карты помещику Ярославской губернии Любимовского уезда Шестакову Гаврилу Даниловичу, который «…нередко наказывал прислугу, строже всего преследовал неуважение к помещичьей власти. Но детям своим не позволял наказывать прислугу говоря: «Сам наживи собственных людей и когда распоряжайся ими, а родительское не смей пальцем тронуть!» Крестьян своих не разорял, по-своему заботился о них, соблюдая и свои интересы…»[16]
Отношение помещика к крестьянину в регулировалось законодательно закрепленной властью владельца, но частная собственность, к которой относились и крестьяне, являлась экономической основой государственного устройства. Содержание в должном порядке имущества, принадлежащего дворянину, контролировалось со стороны государства, заинтересованного в крестьянском благополучии для успешного функционирования налогово-податной политики. Эти обстоятельства налагали определенные обязанности на владельцев усадеб, вынужденных вникать в хозяйственную и семейную жизнь своих крестьян. К примеру, Платон Александрович Чихачев — учредитель русского географического общества, в своих имениях Гусевке и Анновке Саратовской губернии в свободное время мог часами беседовать с крепостными, имел полную информацию о каждом крестьянском дворе и всегда пытался удовлетворить просьбы крестьян о помощи. Но строгие, переходящие иногда в жестокие, меры по отношению к крестьянам применялись им, если кто-либо осмеливался просить милостыню.
Использование детского труда так же считается негативной стороной помещичьего хозяйства. Но, вместе с тем труд — хороший инструмент воспитания, при условии, что дети трудились на полевых работах только в летний сезон. А забитость крестьянства, когда детей сознательно не отдавали на обучение в школу, не способствовала формированию положительных моральных и нравственных черт в характере молодого поколения крестьян: «…мелкое население Караула, занятое при табачном производстве с малолетства приучается к труду. Мне эта отрасль дает отличные доходы, а крестьяне получают на ней до двух тысяч рублей в год, преимущественно работою детей. В голодный год они говорили мне, что в прежнее время родители кормили детей, а теперь дети кормят родителей…»[17]
Рассматривая отношения двух сословий в русле общественного развития, можно привести примеры предвзятого отношения крестьянина к дворянину и совершения необдуманных поступков, которые являлись следствием предшествующих отрицательных условий. Воспитанного на христианских традициях русского крестьянина отличала доброта, покорность и религиозность. Но на рубеже XIX-XX веков в период поисков новых форм бытия, переоценки ценностей и нигилизма отдельным представителям крестьянства присущи извращение положительных черт прошлой жизни, максимализм и экстремизм. Упоминаемые ранее погромы крестьянами дворянских усадеб осенью 1905 года, свидетельствуют о присутствии ничтожно малого интереса к материальной культуре и способности на неожиданно быструю смену чувств и интересов — уничтожению красоты, созданной своими же руками. Феномен усадебной культуры, который при наличии некоторых отрицательных черт не становится менее значимым, сохраняет свое воздействие на духовный мир обитателей — разум, чувства, мышление, способствующим осознанию, пониманию и принятию культурно-эстетических ценностей, в результате чего культура превращается в социальное качество каждого обитателя усадьбы.
[1] Стернин Г.Ю. Указ. соч. С. 258.
[2] Домников С.Д. Указ. соч. С.572.
[3] Домников С.Д. Указ. соч.С. 11.
[4] Там же. С. 213.
[5] Якушкин Д.И. Записки, статьи, письма. М. 1951, С. 25
[6] Летягин Л.Н. Русская усадьбы: миф, мир, усадьба. // Русская усадьба. Сб. ОИРУ. № 4. – М.: Жираф, 1998. С. 256.
[7] Е.А. Боратынский. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников /сост. С.Г. Бочаров. М. Правда. 1987. С. 195.
[8] Е.А. Боратынский. Указ. соч. С. 297, 304-305.
[9] Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Тамбов: ООО «Издательство Юлис», 2007. С. 51-52
[10] Там же. С. 48.
[11] Боратынский Е.А. Указ. соч. С. 249.
[12] Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 48.
[13] Хрущова А.Г. Воспоминания. // Воспоминания русских крестьян 18 — первой половины 19 века. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 104.
[14] Кабештов И.М. Жизнь моя и воспоминания, бывшего до шести лет дворянином, потом двадцать лет крепостным. // Воспоминания русских крестьян 18 — первой половины 19 века. М.6 Новое литературное обозрение, 2006. С. 453.
[15] Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 46.
[16] Хрущова А.Г. Указ. соч. С. 105.
[17] Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 47.


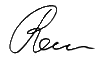 Ромах О.В.
Ромах О.В.