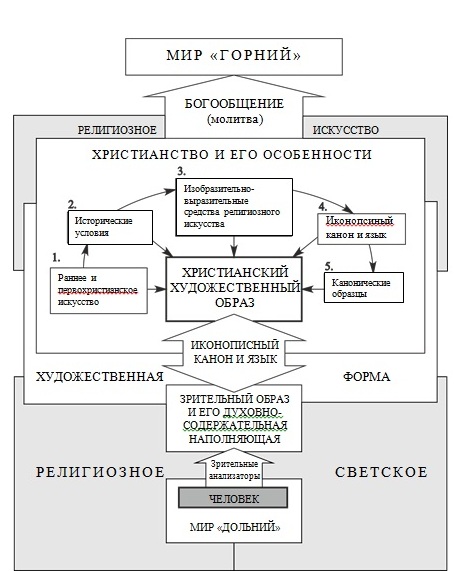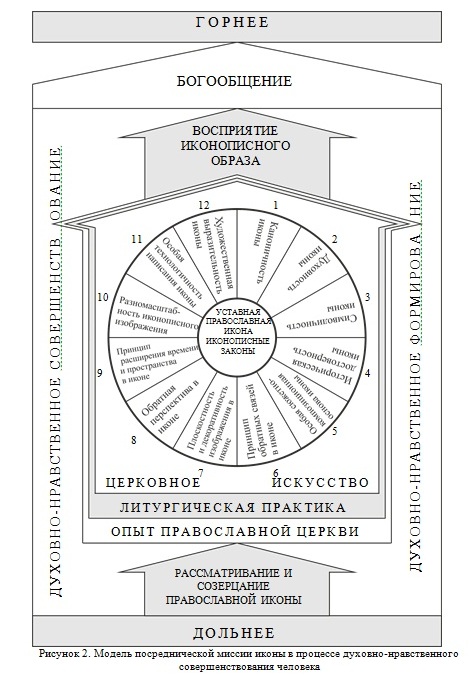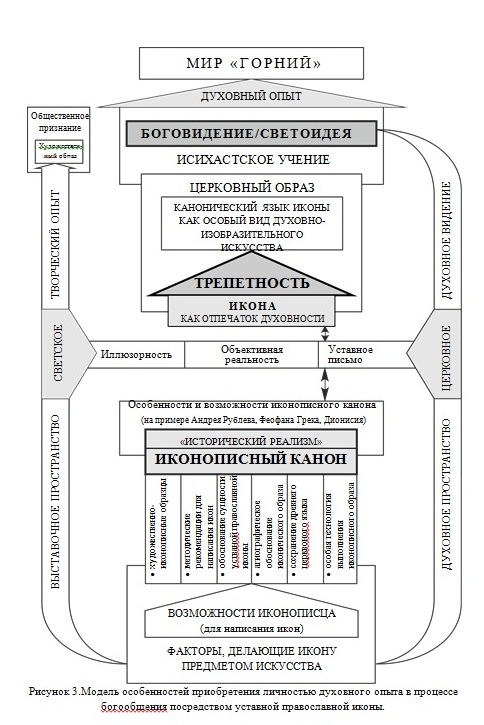Автор(ы) статьи: РЯЗАНЦЕВ А.А.
Раздел: ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Ключевые слова: реклама, рекламная культура, исследолвательские контексты рекламы
Аннотация: Понятие рекламы как виртуальной культуры современности можно уподобить свадебному столу, на котором среди изобилия трактовок данного понятия может быть выбрано одно, наиболее приглянувшееся. Какое определение будет выбрано, во многом, зависит от угла зрения выбирающего, либо же от степени его философской или социальной ангажированности. Вспомним о том, что рекламировать первоначально означало выкрикивать, затем чрезмерно расхваливать, впоследствии – распространять сведения о товаре или о событии с целью создания ему популярности. Однако обычно остается забытым другое значение этого слова – выражать кому-либо свои претензии, протестовать или возражать. Возможно, последний факт связан с негативным восприятием многими нашими соотечественниками современной рекламы.
Текст статьи:
Философский аспект исследования рекламы неизбежно предполагает анализ исторического и зарубежного контекста современной рекламной культуры. Причем аспект восприятия понятия «культура» зависит от систем координат, в контексте которых культура может быть рассмотрена, либо наоборот, в том случае, когда культуру представляют как некую исходную систему координат для оценки чего-либо. Остановимся на понимании культуры и культурных ценностей, которое позволит нам проанализировать ее с позиций соотнесения с рекламной культурой.
Известно, что культура – возделанная почва, позднее стали воспринимать культуру как воспитание, образование, нравственное и интеллектуальное развитие, иными словами, социальное структурирование человека. В свете классической парадигмы развития рациональной мысли под термином «культура» понимается развитие духовных, душевных и телесных сил человеком, по направлению от его «первозданности» к его общественной ценности. Иными словами, культура представляет собой совокупность творческих достижений человека, его способностей, навыков, методов, средств, духовных ценностей, развитие которых служит совершенствованию индивида как прогрессу прогрессов, обеспечивая развитие как отдельного индивида, так и человека в целом.
Именно в данном контексте может быть и рассмотрено понятие непосредственно рекламной культуры. Обращение к последней как к объекту исследования требует, прежде всего, четкого определения этого объекта, соответствующего задачам данного исследования. По отношению к культуре в широком понимании этого слова это общее методологическое требование оказывается особенно необходимым вследствие того, что данный феномен отличается чрезвычайным многообразием определений и реализаций.
«В современных европейских языках, если исключить сельскохозяйственную и естественно-научную терминологию, — констатирует Л.Г. Ионин, — можно выделить четыре основных смысла слова культура: абстрактное обозначение общего процесса интеллектуального, духовного, эстетического развития; обозначение состояния общества, основанного на праве, порядке, мягкости нравов, в этом смысле слово культура совпадает с одним из значений слова цивилизация». [1]
Кроме того, по мнению, этого же автора, стоит отметить абстрактное указание на особенности способа существования или образа жизни, свойственных обществу, группе людей, историческому периоду; а также абстрактное обозначение форм и продуктов интеллектуальной и художественной деятельности: музыка, литература, живопись, театр, кино и т.д. Согласимся с тем, что именно этот смысл слова культура наиболее распространен среди широкой публики.
Добавим к этому, что среди широких массовых слоев населения распространено и использование этого слова для оценки степени совершенства какой либо вещи, внешних признаков поведения какого-либо человека и т.п. А в научной литературе слово «культура» употребляется для обозначения не только духовного, но и материального состояния и развития общества (например, в этнографии, где описывается не только духовная, но и материальная культура). А к тому же подчас это слово используется и еще более широком значении – как синоним термина «общество».[2]
Традиционно известно, что основополагающим признаком культуры, в том числе, и рекламной, является естественность ее исторической эволюции. Создавая те или иные новые материальные и духовные богатства и совершенствуя свою собственную природу, человечество развивает культуру как результат и способ деятельного преобразования мира. Поэтому и о рекламной культуре можно говорить в двух планах. Во-первых, в широком смысле как о способе бытия человека в качестве социального существа, как о системе порождения, хранения и трансляции вне конкретного генетически передаваемого опыта. В этом плане рекламная культура образует материальную и духовную среду, способствующую формированию и развитию личности и общества в целом. Во-вторых, в узком смысле как о «сфере рекламной культуры» — конкретной сфере жизни общества, сфере конкретной профессиональной и весьма специфической деятельности.
Понятие рекламы как виртуальной культуры современности можно уподобить свадебному столу, на котором среди изобилия трактовок данного понятия может быть выбрано одно, наиболее приглянувшееся. Какое определение будет выбрано, во многом, зависит от угла зрения выбирающего, либо же от степени его философской или социальной ангажированности. Вспомним о том, что рекламировать первоначально означало выкрикивать, затем чрезмерно расхваливать, впоследствии – распространять сведения о товаре или о событии с целью создания ему популярности. Однако обычно остается забытым другое значение этого слова – выражать кому-либо свои претензии, протестовать или возражать. Возможно, последний факт связан с негативным восприятием многими нашими соотечественниками современной рекламы.
тметим, что понятие «виртуальный», определяемое в Словаре иностранных слов как тот, которой может быть, «который может проявиться в определенных условиях» также нередко сопровождается негативным контекстом. «То, чего нет, но то, что навязываемо» исключается в рассматриваемом нами контексте в рамках данного параграфа. Подчеркнем, наше понимание рекламы как виртуальной культуры современности включает в себя непосредственно позитивный и продуктивный фактор рекламы как способа позитивизации и возрождения Культуры современности с большой буквы этого слова. В частности, какими путями это возможно, мы рассматриваем в следующих абзацах настоящего параграфа.[3]
Поиску всех возможных трактовок и интерпретаций данного понятия можно было бы посвятить не только диссертацию, но и целую жизнь. Отметим лишь в данной связи, что спектр резко очерченных оценочных определений понятия «реклама» варьируется от предложенного П.Валери «реклама оскорбляет наши взоры и портит пейзажи, она лжет, развращает любую добродетель и подкупает всякую критику», до фразы Б.Сандрар: «реклама – цветок современной жизни, утверждение радости и оптимизма».
Ж.Дюамель, например, оценивал рекламу как «сильнейшее средство давления и оболванивания, в основе которого лежит представление о человеке как о самом тупом из животных», а С.Ликок – «это наука затемнять рассудок человека до тех пор, пока ты не получишь от него деньги». В конечном итоге, при изобилии трактовок, авторы приходили к выводу о том, что «цель рекламы – обратить внимание возможно большего числа людей на тот или иной факт, на ту или иную мысль, на то или иное лицо, в зависимости от того, что именно несет реклама, к чему возбуждает внимание, что именно проповедует, и может решиться вопрос о ее пользе или вреде. В одном случае она может явиться благодеянием, в другом – бедствием, как и всякое другое орудие цивилизации».[4]
Размышляя о рекламной культуре, мы считаем необходимым подробно остановиться на важном для нашего исследования первоначальном традиционном значении этого слова. Обычно под рекламой понимается «распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать и поддерживать интерес к этим физическому или юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний».[5]
Толкователь русских терминов С. Ожегов дает два значения рекламы: «1. Оповещение различными способами для создания широкой известности кому-чему-н. с целью привлечения потребителей, зрителей и т.п. 2. Объявление с таким оповещением».[6]
В этимологическом словаре подчеркивается, что реклама – «через нем. Reklame из франц. reclame, первоначально – «подзывание сокола на охоте; ключевое слово в конце страницы», которое подверглось семантическому влиянию англ. to reclaim «привлекать к себе внимание».[7]
Т. И. Краско утверждает, что реклама – это любопытнейшее явление: «… в котором органически сосуществуют условность театра, выразительность плаката, реализм газетного репортажа, экспрессивность клоунады, интимность камерного общения-диалога, динамичность мультипликации, эстетика кино и эмоциональная напряженность человеческих отношений».[8]
А. В. Костина отмечает, что «несмотря на то, что характер сознания, который продуцируется рекламой и искусством, принципиальным образом разнится, рекламное произведение, будучи продуктом художественного творчества, опирается на всю систему художественных средств искусства и по законам искусства, в основном, функционирует».[9]
М. Ковриженко подчеркивает: «Феномен рекламы в современном мире состоит в том, что она без преувеличения является мировой, глобальной коммуникацией, создаваемой с помощью новейших технических средств и эффективных креативных технологий».[10]
О. А. Феофанов рассматривает роль рекламы как виртуального аналога действительности: «Реклама играет множество ролей: и учителя, и проповедника, и диктатора… Она в значительной мере определяет наш образ и стиль
жизни. Именно поэтому немецкий журнал «Spiegel» определил ее как «пятую власть» вслед за властью СМИ, которая считается «четвертой».[11]
В. П. Шейнов считает, что «цель рекламы – подтолкнуть ее потребителей к принятию решения о приобретении рекламируемых услуг».[12]
Л. И. Рюмшина подчеркивает: «Реклама – это упорядоченная область деятельности, которая пытается донести нужное обращение нужному человеку в нужное время».[13]
Вторит данному определению следующее: «Реклама – прагматически направленное общение, целью которого является убеждение, результатом – продажа товара или изменение к нему отношения».[14]
Современные теории рекламы столь многочисленны, что вряд ли могут быть уложены в прокрустово ложе философских или культурологических концепций. В России вышло более 200 книг, посвященных рекламе, в числе переведенных на русский язык исследований и учебных пособий насчитывается около тысячи источников. В каждом из источников предлагается свое толкование, однако в системе координат широкого культурологического взгляда, данные теории могут быть сведены к следующим аспектам: гносеологическому, онтологическому, психологическому, постмодернистскому.
Сторонники гносеологического подхода делят рекламу по способу отражения действительности, соответственно определяя ее как изобразительную и неизобразительную. К первому виду относят следующие виды печатной и наружной рекламы: «Direct Mail» (прямая почтовая реклама); адветориал (совмещение рекламы с редакционной статьей); объявление в печатном издании; проспект; листовку; буклет; каталог; рекламный плакат; рекламу на щитах; световую рекламу, рекламное оформление витрин; рекламу на бортах транспорта. К числу сторонников этого подхода можно отнести Е.Песоцкого.
Согласно его мнению, неизобразительная или выразительная реклама включает в себя радиорекламу, телевизионную рекламу и нетрадиционные виды рекламы: «Важнейшим выразительным преимуществом телерекламы является возможность демонстрации движущегося изображения, показа в действии рекламируемого объекта, а также процесса приготовления товара». Если радиореклама – самое привлекательное из средств распространения в силу своей экономичности, то телереклама – «самый эмоционально выразительный и зрелищный вид рекламы». Автор приводит результаты исследований К.Бове и У.Аренса: «Ежедневный охват взрослых американцев составляет у радио 81%, у телевидения – 76%, у печатной рекламы – 69%».[15]
Размышляя о нетрадиционной рекламе, стоит остановиться на примере американской и западной рекламной практики: «Одной из самых оригинальных и необычных реклам в парфюмерии является реклама духов «Ма либерте» фирмы «Жан Пату». Рекламные специалисты надушили духами 150 тысяч экземпляров столичного издания «Котидьен де Пари». Газета была моментально распродана, а духи нашли потребителей. В городах Канады на остановках транспорта были установлены оптические и распыляющие устройства, которые отслеживали стоящих на остановках людей и распрыскивали в их направлении духи».[16]
Два последних примера позволяют наглядно проследить отношение к подаренному рекламному продукту как к радостному событию, трудно предположить, была бы воспринята в России столь же позитивно неизобразительная реклама парфюмерии. Резонный для западного потребителя вопрос: но ведь духи могли бы понравиться не всем, остается без ответа.
Безусловно, позитивной была бы в России нетрадиционная реклама одного из американских супермаркетов, который был расположен в отдаленном районе провинциального города: «С его крыши выстрелили из пушки, заряженной однодолларовыми банкнотами. Все деньги достались тем, кто в это время был около супермаркета. Эта рекламная акция стоила 8000 долларов, но после нее супермаркет стал известен как магазин, с которого стреляли из пушки. Посещаемость супермаркета увеличилась, улучшилась замечаемость его рекламы. Выстрел из пушки позволил супермаркету сэкономить 12000 долларов на свою рекламную «раскрутку».[17]
Всемирно известен прием рекламы, которую разработали маркетологи фирмы «Туборг»: красивые люди разъезжают по странам и континентам с 10-литровой бутылкой пива, посещают бары, кофе, спортивные залы и пьют «Туборг» в большом количестве. Затраты на оплату акции оказываются выгодными для фирмы «Туборг»: такая реклама приносит большую прибыль, впоследствии продажи пива увеличиваются в сотни раз.
Приведенные примеры подчеркивают нашу мысль о том, что виртуальная культура современности неизбежно включает в себя реальные представления о системе ценностей данной культуры, о национальных и культурных традициях той или иной страны, в которой будет проведена подобная рекламная акция. Известно, что современное понятие этикета, так же как и морально-нравственных принципов исторически обусловлено и варьируемо, поэтому описанные выше приемы рекламы не могут быть образцом для подражания в России. Однако непосредственно сама процедура поиска форм, методов и путей нетрадиционной рекламы, которая не вторгается в подсознание человека, но привлекает внимание потребителя неординарным и творческим решением, достойна отечественного подражания.
Следующим направлением, в рамках которого возможно рассматривать рекламную культуру, является онтологический, его сторонники разделяют рекламу по способу бытия художественного образа: пространственную, временную и пространственно-временную, которые нередко используются в качестве способа осуществления массового контроля над аудиторией. Известно также, что стирание пространственно-временных границ приводит к притуплению чувств и адекватного восприятия реальности.
Отметим также, что в кинематографической и вещательной формах рекламной культуры заложена именно модель пассивного восприятия. Размышляя над данной моделью, отметим, что довольно часто реклама является источником удовлетворения дешевых удовольствий, вызывает так называемое чувство массовой эротизации, о котором впоследствии много писали философы-постмодернисты. Последний фактор оказывает неблагоприятное влияние на философию, искусство и культуру, заставляя сомневаться в том, что рекламу как таковую вообще можно к культурному явлению. Отметим также сопутствующий этому психологический фактор: удовольствие, получаемое от восприятия рекламной информации, не требует активного участия воспринимающего ее человека, что разрушительно действует на интеллектуальную и духовную деятельность.
Описанные нами явления подтверждают мысль о том, что принадлежность рекламы к массовой культуре требует противопоставления ей массового образования, которое бы не позволяло ей разрушать сознание потребителей. О.Хаксли анализируя специфику рекламной культуры, пишет о том, что успех рекламного производства зависит от двух аспектов: узнаваемости и доступности. Человечество нуждается в подтверждении вечных истин, но критерий массового потребителя – доступность – существенным образом «снижает» планку рекламы как эстетического явления.
Другая сторона этого явления заключается в том, что требования я художественному уровню рекламы растут очень быстро, а профессиональных отечественных ее производителей недостаточно. Поэтому низкий уровень качества современной рекламы определяет ее восприятие. Согласно мнению Хаксли, новым явлением ХХ века становится именно реклама, которая ориентирована на массового потребителя, что обуславливает ее содержательную банальность, формальную ограниченность приемов одновременно с требованием художественного совершенства.[18]
Данный фактор играет важную роль при понимании рекламной культуры как транслятора системы ценностей, указывает на двойственность рекламы. С одной стороны, ей принадлежит высокая сфера философии – узнаваемость ценностей и стремление к художественному совершенству, но с другой, реклама тяготеет к массовости и доступности, что «снижает» как систему ценностей, так и ее художественный уровень.
Согласно существующему психологическому подходу, рекламную культуру следует делить на аудиальную, визуальную, аудио-визуальную, все зависит от того, кто и как ее воспринимает. В частности, Т.Краско в предисловии книги «Психология рекламы» пишет: «Процессы восприятия и понимания рекламы, формирования положительного отношения к рекламируемому товару, появление желания приобрести его – это процессы, обусловленные психологическими характеристиками потребителей рекламных сообщений, конкретных живых и разных людей, для которых эта реклама предназначена. Именно на основе знания этих психологических характеристик и управляющих ими законов должна быть построена реклама. Иначе она окажется красивой моделью самолета, которая взлететь не может».[19]
Некое возвышенное философское отношение к рекламной культуре и метафоричность в определении ее свойств свойственна многим представителям психологического подхода, в том числе Краско: «Реклама – элемент культуры и многомерный вид массовой коммуникации… Каждую минуту жизни человека, даже когда он наедине сам с собой, с ним вместе – все образы, существующие в его сознании, а среди них и образы рекламные, ставшие теперь составной частью внутреннего мира каждого из нас». Отсюда автором выводится ответственность рекламной культуры перед потенциальным потребителем, что не мешает отметить: «ни один вид массовой коммуникации не скомпрометирован так в глазах большинства людей, как реклама».[20] Однако негативное отношение к отдельным рекламным примерам не мешает автору в целом воспринимать рекламную культуру позитивно. Причину негативных тенденций рекламы видит автор в неправильном понимании рекламного процесса: «Самая первая точка отсчета при создании рекламы – не товар, а человек, для которого реклама предназначена. Не зная, не представляя и не понимая реальных психологических особенностей этого человека, потребителя товара и потребителя рекламы, не ориентируясь на его
возможности, ценности, установки, желания и представления, невозможно создать эффективную рекламу, которая соответствовала бы истинным целям рекламной акции и маркетинговым целям самого предприятия».[21]
Безусловно, отсутствие психологических критериев оценки рекламной продукции приводит не только к отсутствию эффективности рекламы, но и к деформированию сознания человека. Краско называет рекламу «зазеркальем» тех изменений, которые происходят с человеком, обществом и культурой. Данная трактовка рекламы наиболее близка к обозначенному нами в названии главы, рассматриваемому явлению. Называя рекламу миром «выдуманных несуществующих помыслов, мифов и гиперболизированных явлений», Краско подчеркивает, что реклама – это еще и фотографическое отражение психологических, социальных и экономических процессов, взаимосплетение и взаимовлияние всех основных видов человеческих ценностей».[22]
Специфику системы ценностей современного человека, живущего в мире рекламы, автор называет «мозаичной культурой», суть которой описывает следующим образом: «Для современного человека равную ценность представляют сведения о новых достижениях науки, культуры, искусства и сведения о предметах вещного мира – мира товаров и услуг. Поэтому мы заинтересованы в существовании рекламы – посредника между миром человеческим и миром «вещным», между потребностями человека и товарами, которые могут эти потребности удовлетворить».[23]
Современная рекламная культура формирует новую философию, суть которой составляет мировоззрение «homo reclamus», его ценности и потребности. Картина мира человека рекламы выглядит следующим образом: в мире рекламы явления, предметы и образы существуют вне их взаимозависимостей, в виде случайно соединившейся мозаики, между событиями, вещами и людьми отсутствуют причинно-следственные связи. Кроме того, в рекламной субкультуре размыты границы между человеком и предметным миром, его окружающим, участие человека, воспринимающего эту рекламу, в рекламном сообщении присутствует в виртуальной форме в качестве потенциального, возможного соучастника того, что происходит в условно созданной рекламной реальности.
Таким образом, рекламная субкультура создает метафизический мир, подразумевающий магическое воздействие на каждого из ее участников, а человек, к которому обращена реклама, невольно оказывается встроенным в любой рекламный контекст. О чем бы речь не шла в рекламе, подразумевается не его самостоятельная ценность, а способность дать человеку пищу или лекарства, или технически обустроить, облегчить или изменить жизнь человека. Все это приводит к тому, что человек выполняет в рекламной культуре играет роль демонстратора или информатора, становится составной частью информационного или эмоционального образа рекламируемого товара.
Однако, необходимо заметить, что сознание современного «homo reclamus» вряд ли способствует продуктивному развитию современной философии и культуры. Мы подчеркиваем, что некоторые существующие на сегодняшний день негативные тенденции могут быть преодолимы, и именно с этой целью мы делаем на некоторых из них акцент в диссертации. Заметим также, что такие тенденции сознания человека, как неспособность видеть причинно-следственные связи, магическое восприятие вне логических связей, случайность и «разовость» взаимоотношений с окружающим миром, магическая «сопричастность» являются типичными проявлениями одного из психических заболеваний – шизофрении.
Согласно утверждению Резмана, каждый третий российский житель официально зарегистрирован с диагнозом «шизофрения», однако прямых статистических исследований, доказывающих исключительно негативную роль в данном процессе именно рекламы, автор не приводит. [24]
Мы не согласны с автором данного исследования в том, что любая современная реклама непременно способствует деформации сознания человека. На наш взгляд, условием возрождения сознания человека можно назвать катарсис, который возникает за счет эстетического переживания художественно созданной системы координат вечных человеческих ценностей. Потеря философской системы координат, при сохранении негативных деформаций влечет за собой неизбежные патологии культуры и общества.
Деформация сознания современного человека с помощью рекламы неизбежно влечет за собой сужение его мировосприятия в сторону восприятия чисто внешних, формальных признаков любых событий и явлений с позиций выгоды, удобства в удовлетворении сиюминутных, исключительно материальных потребностей. Система культурных ценностей, таким образом, отходит на второй план и становится неактуальной.
Впоследствии все это способно привести к следующим деформациям человека: неспособность чувствовать нюансы человеческих взаимоотношений; категоричность во мнениях и взглядах; тревожность и неуверенность в себе при готовности решить любую ситуацию с позиций пользы и удовольствия. Неудивительными последствиями для человека подобного мировоззрения станут описанные создателями рекламы револьвера «Кольт». Всемирно известная реклама надписи на памятнике самоубийце гласила: «Здесь покоится Тот, Который застрелился из револьвера системы «Кольт» – лучшего оружия для этой цели». Отсутствие иронии и самоиронии – тоже один из характерных признаков «homo reclamus». Интересно, что подобная реклама имела большой успех, спрос на эти револьверы резко возрос.
Формирование с помощью философии рекламы нужной рекламодателю психологической, социальной и культурной ориентации превращает окружающий мир в новую философскую систему, суть которой выражается так: «насущная, материальная потребность – ее полное удовлетворение». Особенно деформирует психику человека негативная оценочная реклама, поляризующая мнения, оперирующая оценочными понятиями «плохо или хорошо», декларирующая модальность долженствования, предлагающая активный конфликт в качестве способа решения любой проблемы, угрожающая наказанием за несоответствие той или иной социально-психологической группе, к которой принадлежит человек, который рекламу воспринимает.
В данной связи интересным будет эксперимент, который провели немецкие психологи в г. Бонне, они установили, что рекламные ролики увеличивают количество разводов. Были проанализированы 100 рекламных сюжетов 1960-1965 и 100 рекламных сюжетов 1990-1995 гг. В старых сюжетах рекламы строились на демонстрации гармонии в семье, в противоположность им, ролики 90-х годов описывали конфликтные ситуации между супругами, которые возникали из-за несовпадения желаний и представлений о возможных способах их удовлетворения.[25]
Одним из возможных путей исключения разводов, сохранения этических координат представителями психологического подхода к исследованию рекламы видится следующий: знание психологических закономерностей, которые управляют восприятием, пониманием и воздействием рекламы на человека. На наш взгляд, к этому необходимо прибавить неизбежное массовое развенчание мифа об убогой и отсталой России, который включает в свой контекст и современную философию рекламы.
К числу позитивных концепций философии рекламы мы относим изложенную Ж.Бодрийяром в книге «Система вещей». Глава под названием «Дискурс о вещах и дискурс-вещь» исследует «дискурс о вещи», понимая его как «послание», которое заключено в речевой и образной рекламе. Согласно его мнению, реклама представляет собой своеобразное приложение к системе вещей, она не может быть отделена от этой системы, любые попытки ограничить ее чисто информативными пределами, не имеют смысла.
Современная диспропорциональность позволила рекламе стать составной частью виртуальной системы вещей, которую она венчает самим фактом своего существования. Иными словами, рекламная культура может быть охарактеризована как мир несуществующего, виртуального, одним словом, мир чистой коннотации, что объясняется не участием рекламы в производстве и непосредственном применении вещей. Так, современная реклама обладает двойственным статусом: с одной стороны, она есть дискурс о вещи, с другой сама является непосредственно вещью, причем именно в качестве ненужного дискурса она превращается в предмет культуры.
Отметим, что в современной рекламе присутствуют все аспекты системы вещей: персонализация, дифференциация, умножение несущественных отличий, примат производства и потребления над техническими структурами, функциональные нарушения, которые достигают в рекламе своего апогея. В силу высокой степени аллегоричности образов и слов реклама образует идеальный образ виртуальной системы вещей.
Мысль о том, что описанные выше процессы, раскрывающие новую философию рекламы, неизбежно ведут к тотальному порабощению человека и его потребностей не нова для создателей рекламы, ориентированной на успешный сбыт товара, и впоследствии грозящая полным крахом организованной ими системы потребления. Задачей современной философии рекламы становится отнюдь не ложное сообщение о характеристиках того или иного товара в целях успешного его сбыта. Цель оправдывает средства исключительно для тех, кто прибыль ставит превыше всего, поэтому и средства оказываются соответствующими: прямое и опосредованное внушение, с каждым днем все более совершенствующиеся навыки управления человечеством, которое живет в виртуальном мире.
Однако современные социологические опросы показали, что проникающая сила рекламы не столь велика, как принято считать, – она очень быстро вызывает пресыщение и реакцию отталкивания, рекламы разных товаров взаимно нейтрализуют друг друга, а то и сами себя своей преувеличенностью. С другой стороны, рекламное внушение имеет своим возможным следствием всевозможные виды контрмотивации и психологического сопротивления, как рациональные, так и иррациональные.
В качестве примера подобных реакций можно привести следующие: потребитель, не желая, чтобы им полностью «владели», постепенно вырабатывает в себе по отношению к рекламе, своего рода, иммунитет. Повторяемость рекламного дискурса и его приемов вызывает отторжение, современный рекламный дискурс разубеждает не меньше, чем убеждает, что позволяет потребителю быть отчасти свободным по отношению к постулируемой в рекламе информации.
Отметим, что это не означает, что вся реклама может быть охарактеризована как вызывающая отторжение, так же, так невозможно абсолютизировать и безопасность всей существующей на сегодняшний день рекламы. При всем том, что она «безобидно» внушает потребителю или иную конкретную марку, одновременно с этим, она и внушает ему нечто очень важное для существующего общества, то, по отношению к чему конкретные марки превращаются в социальные алиби. Интересно, что с человеком при этом происходит, примерно следующее: чем больше он сопротивляется рекламному императиву, тем более чувствительным он к нему становится.
Таким образом, рекламная культура превращается во вторичный потребительский товар, характеризуя этим своеобразное явление современной философии и культуры. Человек верит рекламе потому, что она дает ему почувствовать роскошь современной жизни, которая позиционируется как высокий уровень развития культуры. Подобная несколько детская логика вызывает аналогии с логикой новогодних подарков. Логика известного мифического персонажа находится вне системы доказательств и тезисов, это, при всей своей очевидной мифичности, иными словами, ложности, существует иная логика виртуальности, которая и определяет степень вовлеченности в нее человека.
Не имеет значения, насколько верит в чудо новогодних подарков человек современной культуры, он их ждет, точно также, как ждет продукцию современной рекламы. Вера в чудо – это рационализирующая выдумка, позволяющая ребенку во втором детстве сохранить волшебную связь с родительскими дарами, которая была у него в первом детстве. В качестве родительских даров в случае с рекламой выступает философия и культура, щедро одаривающая своих потребителей.
Интересно, что подобного рода виртуальная волшебная связь дорога человеку именно в силу ассоциаций с далеким, детским прошлым, которая превращается в возможное его продолжение. Стоит отметить, что в самом по себе вымысле логики новогоднего подарка нет ничего искусственного, он основан на взаимном интересе обеих сторон. Ребенок верит потому, что по сути своей, благодаря ежегодной реализации этого чуда он абсолютно уверен в родительской заботе и тепле. Таким образом, человек современной культуры, на самом деле, «верит» рекламе не больше, чем ребенок верит в то, что кто-то приходит из далекой страны и кладет ему под елку подарки. Однако это не мешает ему, подобно инфантильному ребенку, искренне вовлекаться в ситуацию и, что самое главное, вести себя соответствующим ребенку образом. Из этого рождается вывод о том, что главное оружие рекламы – не логика внушения или выработки определенных рефлексов, а своеобразная логика инфантильных верований и, безусловно, регрессии современного человека.
Современные философы-постмодернисты неоднократно подчеркивали в своих исследованиях, что магическая сила рекламы – суть, своего рода, алиби, в которое сохраняется потребность верить даже во взрослом состоянии: «Решающее воздействие оказывает не риторический дискурс и даже не информационный дискурс о достоинствах товара. Зато индивид чувствителен к скрытым мотивам защищенности и дара, к той заботе, с которой «другие» его убеждают и уговаривают, к не уловимому сознанием знаку того, что где-то есть некая инстанция. В данном случае социальная, но прямо отсылающая к образу матери, которая берется информировать его о его собственных желаниях, предвосхищая и рационально оправдывая их в его собственных глазах».[26]
К числу выдающихся исследований в области философии зарубежной рекламы, безусловно, стоит отнести Ж. Бодрийяра, в одной из глав книги «Система вещей» описывается так называемая «инстанция матери: кресло «Эрборн» – выбивается из общего контекста, точно так же, как и неожиданная трактовка понятия виртуальность. Ученый незаметно отходит от «бартовского» понимания этого слова, переводя его в ранг современной метасоциологии. Расшифровывается, в данном случае, волшебная виртуальность кресла следующим образом: оно наделяется одушевленными признаками, способностью подобно собаке, быть преданным своему хозяину, покорным ему и любящим его; кресло способно перенести его владельца сквозь времена и пространства с одной только целью – доставить ему удовольствие.
Таким образом человек получает верного нового друга – кресло, которое способно стать своеобразным современным виртуальным двойником: принимать тот образ хозяина, который он захочет, кресло, безусловно, обладает неким волшебным даром, которым оно готово поделиться со своим владельцем. Одним словом, кресло отражает заботу социума о данном человеке, который его купил и наделяется, соответствующим образом с позиционированными «признаками» социума: цель – счастье его членов, путь – преданность самому социуму: «Под заголовком «Настоящий комфорт не делается наскоро» таится предостережение против легкости: комфорт пассивен, нужно сделать его активным, создать предпосылки для пассивности, далее следует текст, где с нажимом утверждается современность и научность данного производства».[27]
Современная мягкая мебель превращается, таким образом, в своеобразный синтез определенным образом организованной системы культурных ценностей, эстетики, комфорта, прочности, завершенности, сказки. Подобный гениальный продукт современного производства возможен только с учетом опыта далеких предков и их традиций. Опора на традиционное благородное прошлое оказывается сильнее технологических традиций: покупающий кресло человек начинает с его помощью чувствовать сопричастность с мировым философским, техническим и культурным опытом.
Подчеркнем, что данная реклама построена грамотно, причем в качестве дополнительной информации к рекламе кресла присоединяется ориентация на дом, семью, здоровье и сохранение молодости: все члены семьи будут чувствовать себя в нем лучше, чем всегда, оно само «подстроится» к каждому из них, поможет ощутить свою индивидуальность и будет хранить верность и преданность. Контекст «метасоциологии» таков: незачем вам думать о недостатках общества или пытаться изменить их, потому что уже свершилось самое главное – техническая революция; и общество в «лице» этого кресла готово приспособиться к вашим желаниям и потребностям.
Красивая концепция такой рекламы убеждает, что товар начинает цениться человеком не по своему качеству, а по тому, как с его помощью рекламируемая фирма заботится о благе человека современной культуры. Следствия подобного процесса не заставляют себя ждать: человек начинает испытывать неразрывные друг от друга удовлетворение и фрустрацию. Данная реклама вызывает одновременно гордость и чувство вины, которые воспринимаются как неизбежные и детерминированные обществом, человек привыкает к таким переживаниям, они становятся составной частью его внутреннего мира.
Объяснение грамотной высокопрофессиональной рекламы как одной из причин травмированного Запада свойственно перу постмодернистов. Было бы неверным все выводы современных западных философов переносить на почву российской рекламы. На наш взгляд, в отечественной рекламе, в первую очередь, действуют логика активного управления сознанием людей современной культуры, включая нейролингвистическим образом выработанное рефлекторное поведение. И данная регрессия представляется нам куда более опасной для культуры, чем «логика новогоднего подарка». Тем не менее, мы согласны с тем, что, описанные выше процессы существуют и «работают», что отнюдь не исключает наличие в современной ситуации иной, позитивной рекламы.
Французские философы пишут о том, что современная реклама превращается для человека западной культуры в своеобразный фактор среды, создает иллюзию теплоты и доверия: «Подобно тому, как краски бывают не красными и зелеными, а теплыми или холодными, как определяющим показателем личности служит теплота или холодность, – так и вещи бывают теплыми или холодными, то есть равнодушно-враждебными или же естественно откровенными, общительными, одним словом «персонализированными».[28]
Рекламируемые на Западе товары свою «грубо-архаическую функцию», перестают иметь функциональное предназначение, они навязываются, превращаясь в «парад навязанных представлений», проникают во внутренний мир человека, доказывая ему свое существование «избыточным излиянием своих видимостей». Так раскрывается механизм персонализации: рекламируемый товар изначально «нацелен» на каждого человека, создавая ему столь недостающие ощущение любви и тепла. «Через» эту любовь потребитель со временем начинает ощущать свою социальную и культурную востребованность, таким образом, он становится «персонализированным». Купленный товар в данном случае становится вторичным: изобилие товаров создает иллюзию устранения дефицита, в первую очередь, душевной теплоты и психической неустойчивости.
Таким образом, западанная реклама становится, современным компенсаторным механизмом психической неустойчивости травмированного культурой человека, который, в свою очередь, переводит в план своих внутренних переживаний это, так называемое социальное «попечительство», которое производит не только необходимые материальные блага, но и иллюзию теплоты и доверия общения. Разумеется, декларируемое Западом социальное «попечительство» имеет своей целью увеличение сбыта и рост прибыли, но правильная «подача» рекламы как дара свыше дает ощущение ее демократичности.
Так западная рекламная культура играет с человеком в «дар» и «доступность»: архаический ритуал дара и подарка «накладывается» на наивные ожидания ребенка, который привык к пассивному получению родительских благодеяний. С учетом того, что большинство западных потребителей – не получили достаточного количества родительской любви, либо по другой причине сохранили в себе инфантильность, данный механизм оказывается очень действенным, но не следует забывать, что цель этого механизма – превращение коммерческих отношений в личностные с целью обогащения тех, кто производит тот или иной товар.
Все это впоследствии приводит к тому, что реклама, которую воспринимают бесплатно, стоит высот затрат ее производителям. Это связано с тем, что персонализация тех или иных социальных моделей и их распространение для массового потребителя нередко обходится дороже, чем внедрение некоторых новинок технического прогресса. В современном западном обществе этот процесс с каждым днем принимает все более и более грандиозные масштабы.
Обозначенные выше процессы позволяют сформулировать вторичную, функцию современной рекламы: компенсировать и нейтрализовать психическую неустойчивость и травмированность человека, предоставляя ему виртуальное удовлетворение потребностей, создавая иллюзию востребованности и значимости для общества: «Сквозь это сладостное воспевание вещей необходимо слышать истинный императив рекламы: «Смотрите: целое общество занято тем, что приспосабливается к вам и к вашим желаниям. Следовательно, и для вас разумно было бы интегрироваться в это общество». Внушение происходит незаметно, но целью его является не «побуждение» к покупке и порабощение человека вещами, а подсказываемое таким дискурсом приобщение к социальному консенсусу: вещь – это род службы на благо общества, особое личностное отношение между ним и вами».[29]
Конечно, многое зависит от особенностей культуры в той или иной стране, что влияет на восприятие такой рекламы. Важным в данном случае, становится политическая и идеологическая обстановка в конкретных странах, некоторое предубеждение жителей Запада против «неразвитых граждан Востока» связано с недостаточным развитием в восточных странах именно рекламы. Однако отметим, что принцип построения рекламы в странах и Запада, и Востока одинаков: «благодаря» игровой функции она нередко имеет своим следствием процесс регрессии, который, если ставит перед собой цель быстрого обогащения производителей, тормозит процессы труда, производства, рынка и стоимости. Интересно, что отказ от покупки приводит в расстройство всю виртуальную интегрированность общества. В том случае, если не приобретается рекламируемый товар, он доказывает, тем самым, ненужность его производства, что, в свою очередь, становится тормозом развития производства. Конечным результатом такой системы отношений становится разобщение, которое достигает своей кульминации в рекламной культуре и современной философии.
С помощью подобных приемов реклама пытается удержать «в своих руках» процесс формирования культурных ценностей, в том числе, с помощью образа матери, который централизуется между трудом и рекламируемым товаром. В момент приобретения ненужного человеку товара, последний утрачивает связь с потребительским благом. Построенная так реклама ориентирует на восприятие рекламируемого товара не как некоей ценности и нужности, а как «материнское благо», заботливо предлагаемое обществом: «Разобщая в одном и том же индивиде потребителя и производителя с помощью материальной абстракции высокодифференцированной системы вещей, рекламная культура, с другой стороны, старается восстановить инфантильную неразличимость между предметом и его желанием, отбросить потребителя к стадии, на которой ребенок не отличает мать от ее даров».[30]
Отметим, что целью структур западной рекламной культуры становится укрепление своего господства под прикрытием действующего в рекламе образа матери, который делает невозможным активный социальный протест. Скрывая от потребителей реальную историю товара и, тем самым, скрадывая социальную историю вещей, реклама, использует так называемое социальное виртуальное, за которым прячется настоящий, действующий строй производства и эксплуатации. Сущность этой демагогии раскрывается следующим образом: ее тактика основана на раздвоении социальной действительности на реальную инстанцию и ее виртуальный образ. Придуманный, удобный образ модной и престижной западной реальности скрадывает ее в целях освобождения места для схемы растворения личности в искусственно созданной заботливо-материнской «среде»; главным способом воздействия на людей становится внушение: «Общество всецело приспосабливается к вам, так интегрируетесь же и сами в него».
Понятно, что не каждый человек способен понять, что приспособление общества – видимое, но требующее от него реальных собственных деформаций в угоду обществу. Одним из таких примеров становится вышеприведенная реклама кресла, которое обещает видоизмениться для удобства потребителя, но, приобретая его, потребитель, тем самым, невольно сам «сочетается» со всем технико-политическим и социальным строем общества.
Именно об этом предупреждающе писали западные философы: «Здесь нам открывается политическая роль, которую играет тиражирование рекламных изделий и операций: они, по сути, приходят на смену морально-политическим идеологиям прошлого. Более того, тогда как морально-политическая интеграция всегда шла небезболезненно, часто ее приходилось подкреплять открытым насилием, новейшие технические приемы обходятся без репрессии: потребитель интериоризирует социальную инстанцию и ее нормы в самом жесте потребления».[31]
Таким образом, западная рекламная культура не дает человеку реализации его потребностей, она не является посредником между предметами и потребителем; следствием состояния, которое ею порождается, становится чувство нереализованности и обмана. Впоследствии человек современного общества ощущает хроническую тревожность и перевозбужденность, рассогласование реальности и представления о ней, все это травмирует его. Исследователи уподобляют чтение подобным образом созданного рекламного образа модному психологическому понятию – психодраме, которая подразумевает истинные чувства при переживании ложных ситуаций.
Описанные выше приемы становятся средством воспитания современного человека, который вынужден оставаться пассивным и ждать, когда же на него обрушится изобилие рекламных образов. Эффективность подобной рекламы возрастает также за счет социального статуса, которым обладает практически любой рекламный знак: варианты его чтения ограничиваются социальными рамками. Этот процесс обеспечивается тем, что рекламные знаки говорят потребителю о вещах, но не предлагают варианты их интерпретации. Так восприятие «отсылается» к рекламируемым вещам, как к реальным, но реальные вещи иногда «подаются» так, будто это вещи несуществующие. Все это способствует тому, что рождается легенда рекламируемого продукта: не отсылая к реальному миру, рекламные знаки подменяют его собой, при этом, требуют от человека, особого рода деятельности – виртуального чтения.
Однако, это чтение нельзя назвать полноценным, потому что рекламные знаки искажают истинную информацию, либо вообще не несут ее. При этом их главной ролью нередко становится указание на отсутствие того, что ими должно обозначаться. Именно в этом смысле говорится об искаженной системе удовлетворения потребителей, в которой одновременно существуют два фактора: фактор присутствия реальности; фактор ее отсутствия, фрустрирующий человека. Данный процесс имеет своей целью переключить внимание человека от реальности, заставить его постоянно испытывать фрустрацию, чтобы поддерживать в нем чувство вины, блокирующее механизмы осознания того, что действительно с ним происходит.
Так чтение образа рекламы способствует появлению готовности к восприятию новых рекламных образов, которые, сменяя друг друга, гипнотизируют сознание современного человека. Таким образом, основной функцией западного рекламного образа становится устранение реального мира, что, безусловно, фрустрирует человечество. Принцип реальности, который смещается либо искажается в рекламном образе, превращается в постоянный рост желаний и, создавая особую виртуальную реальность потребностей, которые увеличиваются до жажды зрелищ, требуя все больших и больших переживаний. Отсюда проясняется существующая согласованность между рекламным знаком и глобальным строем общества: реклама не механически несет в себе ценности этого общества, она более тонко реализует общественный строй в его двойной ипостаси одаривания и подавления посредством собственной двойственной презумптивной функции. [32]
Такое состояние может быть охарактеризовано как «промежуточное между обладанием вещью и лишением ее», присутствие в сознании человека современной западной культуры двух противоположных желаний – наличия и отсутствия вещи – фрустрируют его, способствуя социальной интеграции. Но поскольку любой рекламный образ является виртуальной реальностью, он, самим фактом своего существования, создает иллюзию смягчения беспокоящей сознание человека многозначности мира. Краткость рекламного сообщения преследует ту же цель: исключить возможность интерпретаций, оставляя за социальным заказчиком рекламы право на варианты ее прочтения.
Отметим, что распространенный прием отсылки или узнавания преследует цель социально организованной виртуальной семантики, которая ориентирована на заказывающее рекламу западное общество. Такое общество имеет право играть материнским и отцовским образами, фрустрировать потребителя, использовать символические сюжеты и персонажи, сводя их смысл к одному – удобному для себя. Построенное таким образом общество само вызывает страх для того, чтобы снять его и, тем самым, вызвать к себе доверие, оно разочаровывает, чтобы потом очаровать, но с той же целью – создавать царство свободных желаний.
Созданные данной рекламной философией желания впоследствии не удовлетворяются реально, поскольку это означало бы конец существующего социального строя, в рекламном образе желание удовлетворяется ровно настолько, чтобы сработали рефлексы страха и вины, связанные с его дальнейшим появлением. Все это приводит к тому, что зачаточное желание, спровоцированное образом, но им же и обезвреженное, отягощенное виной, вновь подпадает под власть определенной социальной инстанции. Так рождается сегодня удобный для западного социума виртуальный избыток свободы, который на самом деле является несвободой и подчиняет социуму человека. Воображение потребителя строго организуется рекламой и направляется в удобную для данного социума сторону, а вызванный ею же разгул агрессии и разрушительных инстинктов, опять-таки, превращается в управляемую регрессию.
Конечной целью такого процесса становится деструктивный, организованный согласно социальному заказу «разгул психических сил», широкое распространение всякого рода сексуальных отклонений и психических перверсий, управление которыми подчинено виртуальной цели – социальному благу. Данный процесс подобного виртуального контролирования и одаривания может быть уподоблен процессу подавления, который получает грандиозные масштабы. В рекламном культурном образе и дискурсе человек воспринимает их одновременно, причем репрессивный принцип реальности срабатывает в самом сердце принципа удовольствия.[33]
Рекламная философия пронизывает собой все бытие человека, поэтому то, как соотносятся внутри себя непосредственно социум, культура и реклама, во многом определяет и происходящие в самом обществе процессы. Методологической проблемой является то, что культура не всегда отвечает всевозрастающей модернизации мира, в том числе не всегда адекватно реагирует на частичный возврат к негосударственным формам культуры. Извечный страх перед архетипами, мифологией, религией дополняется научной агрессией на постмодерн, что нарушает разумную картину современной философии. Данные процессы требуют специального анализа в целях выявления соотношений между ними в период поиска их сочетания, синтеза и возможности гармоничного развития.
Западная рекламная культура проникла во все области деятельности и бытия человека, поэтому в отсутствии четкого определения слов реклама и культура постоянно присоединяет большое количество новых значений, а иногда и заменяет старые понятия, например культура подменяет слово общество. Необходимо также принять во внимание, что понятия и значения иногда не связаны с общеобязательными правилами и существуют самостоятельно. Все это порождает необходимость четкой терминологии в области как непосредственно философии рекламы, так и культуры в широком смысле этого слова.
Безусловно, новые концепции не могут существовать вне учета традиционного научного знания. Поэтому в целях дальнейшего глубокого анализа рекламной культуры необходимо применение системного и конкретизированного подхода, где понятие «смысл», «культурная ценность» выступают в качестве основы, а, соответственно науки философия и культурология превращаются в науку о смыслах и ценностях, так как в культуре содержится все, что присуще человеческой ментальности. При такой постановке вопроса рекламную культуру можно рассматривать не только в рамках непосредственно культурологии, но и в рамках философии как науки, занимающейся общими законами мира.
Современная западная философия, которая занималась общими законами мира как целого, потерпела крушение, так как с точки зрения доминирующей в философии методологии объективизма сам автор философских построений был вынесен за скобки анализа. Кроме того, мир изменчивой бытийности рассматривался с позиций однозначной истины, и философ, таким образом, вещал с позиций неких неизменных культурных ценностей, которые, как известно, носят исторически субъективный и социально обусловленный характер.
[1] Ионин Л.Г. Социология культуры. – М., 1996. – С.11.
[2] Слепокуров В.С. Культура как система соционормативного регулирования. Монография. – М.: МГУКИ, 2003. – 209 с. С.9-10
[3] Словарь иностранных слов. – М., 1989, с. 106.
[4] Рюмшина Л. И. Манипулятивные приемы в рекламе. – Ростов-на-Дону, 2004, с. 5.
[5] Рюмшина Л. И. Манипулятивные приемы в рекламе. – Ростов-на-Дону, 2004, с. 8.
[6] Ожегов С. Словарь русского языка. – М., 1988, с. 155.
[7] Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М., 1987, с. 464.
[8] Краско Т. И. Психология рекламы. – Харьков, 2004, с. 191.
[9] Костина А. В. Эстетика рекламы. Учебное пособие. – М., 2003, с. 30.
[10] Ковриженко М. Креатив в рекламе. – М., 2004, с. 8.
[11] Феофанов О. А. Реклама. Новые технологии в России. – М., 2001, с. 14.
[12] Шейнов В. П. Эффективная реклама. Секреты успеха. – М., 2003, с. 3.
[13] Рюмшина Л. И. Манипулятивные приемы в рекламе. – Ростов-на-Дону, 2004, с. 6.
[14] Резман И. Психология рекламы. – Ростов-на-Дону, 2000, с. 23.
[15] Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика. – Ростов-на-Дону, 2001, с. 87.
[16] Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика. – Ростов-на-Дону, 2001, с. 89.
[17] Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика. – Ростов-на-Дону, 2001, 90.
[18] Хаксли О. Искусство и банальность. – СПб., 1963, 64 с.
[19] Краско Т. И. Психология рекламы. – Харьков, 2004, с. 9-10.
[20] Краско Т. И. Психология рекламы. – Харьков, 2004, с. 24.
[21] Краско Т. И. Психология рекламы. – Харьков, 2004, с. 25.
[22] Краско Т. И. Психология рекламы. – Харьков, 2004, с. 204.
[23] Краско Т. И. Психология рекламы. – Харьков, 2004, с. 26.
[24] Резман И. Психология рекламы. – Уфа, 2000, 26 с.
[25] Резман И. Психология рекламы. – Уфа, 2000, с. 200.
[26] Бодрийар Ж.. Система вещей. – М., 2001, с. 181.
[27] Бодрийар Ж.. Система вещей. – М., 2001, с. 182.
[28] Бодрийар Ж.. Система вещей. – М., 2001, с. 184.
[29] Бодрийар Ж.. Система вещей. – М., 2001, с. 189.
[30] Hassan I. Paracriticism: Seven speculations of the times. – Urbana, 1975, 24 р.
[31] Hassan I. Paracriticism: Seven speculations of the times. – Urbana, 1975, 26 р.
[32] Hassan I. Paracriticism: Seven speculations of the times. – Urbana, 1975.
[33] Liotard J. Answering question. – Madison, 1984.